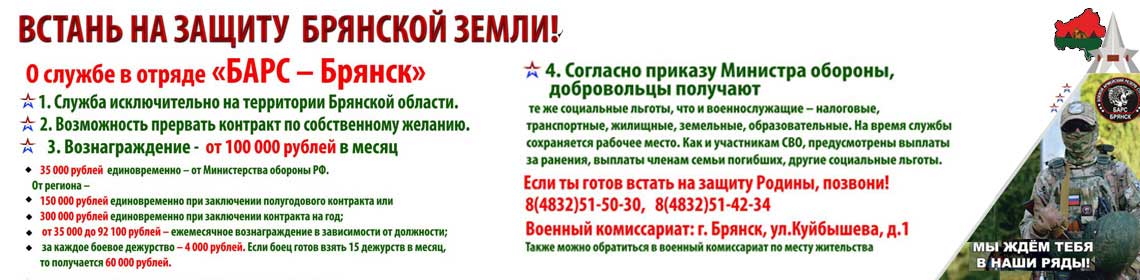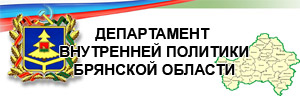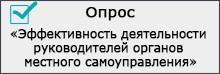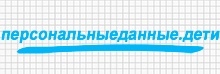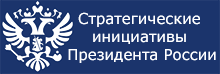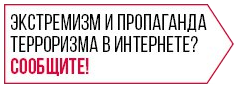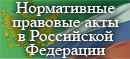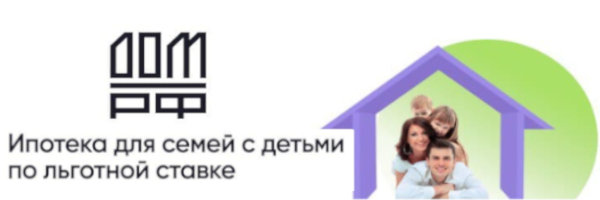Линия судьбы Евгении Котовой

Мы помним многих своих учителей, потому что отпечаток их личности лежит на нас. Житейские добродетели в нас от отца-матери, идеи — от учителя. В нем персонифицировались новые для нас вещи и понятия: книга — учитель, справедливость — учитель, служение народу — учитель, правда, красота, культурность — все он. Мы подражали ему, и многие хотели стать учителями. И становились. Теперь, встречаясь с педагогами старшего поколения, узнаю в них своих сверстников, и как же отрадно видеть в них дух наших первых наставников.
Человек, о котором задуман этот материал, не учил меня — так получилось. Но рассказать о бывшей учительнице географии Шаровичской средней школы Евгении Максимовне Котовой для меня долг и большая честь. Тем более, что недавно ей исполнилось 90 лет, и тем более, что являюсь выпускником этой школы — одной из лучших в Рогнединском районе в 60-х- начале 70-х годов. В ней преподавала целая плеяда замечательных учителей. Среди них Е.М.Котова.
НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ
Отец, Максим Трифонович, умер, когда маленькой Жене исполнилось полтора года. А всего в семье Сергеевых было семеро детей: Елизавета, Григорий, Степан, Надежда, Алексей, Евгения, Александр. Сейчас Евгения Максимовна, по ее же выражению, «живет за семерых», поскольку братьев и сестер на этом свете уже нет. Старшие братья, Григорий и Степан, сложили головы на войне. Евгения Максимовна помнит, как, уходя на фронт, Степан сказал матери: «Не горюй, мама, повоюем, победим и построим новую жизнь, голодать не будем». Меланья Тимофеевна много дней проплакала по погибшим сыновьям. Алеша тоже успел повоевать, но, слава богу, вернулся домой.
В оккупации тоже было не сахар. Сергеевы жили на окраине Рогнедино — на Кузеневке. Когда немцы подошли совсем близко, руководство колхоза «Пятилетка» решило угнать общественный скот в тыл. Посылали Меланью Сергееву, но дед Игнат, брат Максима Трифоновича, отговорил ее: «Куда ты пойдешь? У тебя на руках детвора…»
Огромное стадо коров и быков, телят, сформированное на Трудолюбии, Кузеневке, Гатьково, перегоняли в далекую Пензенскую область трое подростков, среди которых был 15-летний Алеша Сергеев, и двое взрослых. Выполнив миссию и получив деньги, мужики благополучно отправились в обратный путь. А подростки добирались без денег, без документов, мыкались по вокзалам, заброшенным домам, просились к незнакомым людям на постой. Продвигались в направлении Брянщины вслед за фронтом.
— Когда Алеша вернулся домой, — вспоминает Евгения Максимовна,- мы ахнули: кожа да кости. Потребовалось несколько месяцев, чтобы брат поправился. Как-то он встретил одного из тех мужиков, что обманули и бросили подростков на чужбине. Леша пригрозил, чтобы не попадался больше ему на глаза, иначе придушит. После мужик с семьей уехал из Рогнедино.
Но прокрутим барабан времени обратно и остановим его на сентябре 1943 года, когда гитлеровцам прищемили хвост на Курской дуге, и линия фронта приближалась к Брянщине. То, что долгожданное освобождение не за горами, угадывалось по поведению оккупантов: они собирали скот в гурты, готовя к отправке в Германию, гнали в фатерлянд советских граждан, участились поджоги деревень, поселков.
— Возле Тущи, на лугу,- продолжает Евгения Максимовна, — немцы сформировали огромный табун лошадей. А мы семьей решили бежать в поселок Сосовка — в трех километрах от Рогнедино и недалеко от Чернево. Поселились в бане. В Чернево еще стояли немцы. Примерно 12 сентября немцы согнали все рогнединских и сосовских в две хатки и заперли двери, заколотили окна. Дети заголосили, женщины завыли: все понимали, что нас вот-вот сожгут. Многие обнимались, целовались и простились с жизнью. До восьми утра никто, практически, не спал в ожидании смерти. И вдруг слышим — дверь стала отходить. С опаской люди потянулись к выходу. Столько радости было, когда поняли, что смерть отступила. Вот только жалко было, что пропал наш скот, который припрятывали от немцев. И только спустя пять лет выяснилось, что это Виталий Федорович, муж маминой сестры Агафьи, согласился выдать немцам местонахождение коров, лошадей в обмен за то, чтобы людей не сожгли или не расстреляли. Такой была наша жизнь в оккупации… А когда мы вернулись на Кузеневку, то вместо дома и хозяйственных построек увидели лишь пепелище. Начали рыть землянки…
ФЕНОМЕН АФОНСКОГО
В роду Сергеевых учителей ни в каком веке не значилось. Не думала учить детей и Евгения. После школы работала в колхозе: на косовице не уступала мужикам, трудилась на току, прополке посевов и мн. др. Но тут приехала из Унечи сестра Елизавета и завела разговор: » Жень, колхоз от тебя никуда не уйдет, займись — ка ты чем-то другим. Например, выучись на учителя». «Какого учителя,- воскликнула я, — только опозорюсь со своими тройками. Да и не готовилась я ни к каким экзаменам. А потом: на какого учителя?». «Господи, Жень, ну возьмись за географию, например», — посоветовала сестра.
-Все-таки Лиза меня уговорила, — вспоминает Евгения Максимовна.- Я поехала в Новозыбков, сдала документы в пединститут, а назавтра начались экзамены по пяти предметам. Так поступила на учителя географии. Откровенно говоря, никогда об этом не жалела.
… На дворе1951-й год. После окончания института молодому педагогу нужно было до августа устроиться на работу. Евгению пригласили к заведующей отделом образования А.В.Иномистовой. На предложение пойти директором Федоровской семилетней школы девушка пустила слезу: «Не пойду директором, молода еще…». Начальница успокоила Евгению и посоветовала не спешить с выводами и хорошенько подумать. Дома мать выслушала дочку:
— Ну и что, что директором? Другие работают и ты сможешь.
Тут в разговор встрял брат Алеша:
— Директором? Глупая, тебе нужно радоваться, а не слезы лить. Будешь на быках ездить, дровишки возить для школы да покрикивать цоп-цэбэ!
Евгения снова расплакалась. Три дня сидела дома — переживала. Хотела даже с подругой уехать в Пензенскую область, где имелись вакансии на географов. Да предусмотрительная А.Иномистова оставила ее диплом у себя.
Наконец, снова вызывают Е.Сергееву в РОНО:
— Ну как, подумала, пойдешь директором?
— Нет, — Евгения была непреклонна.
— Так ты что, еще ревешь?
— Так и реву. А в директоры не пойду: опыта нет.
— Ну ладно, пойдешь географом в Шаровичи, к Афонскому?
Александру Яковлевичу Афонскому Евгения обрадовалась. Это был талантливый организатор и педагог, уважаемый в учительской среде человек. Как всякий талантливый человек, весь отдавался работе, подчас не обращая на мелочи, на свой внешний вид. Не стеснялся появляться на людях в простой одежде, с потертым рюкзачком за плечами. Собираясь на работу, второпях Александр Яковлевич мог не обратить внимания на незаправленный в голенище сапога лоскуток портянки. И, если эту оплошность мужа не заметила жена Елена Петровна, мог ходить в таком виде по школе. Впрочем, на эту деталь никто не обращал серьезного внимания. Ее воспринимали как естественную деталь характера.
— Работать с Афонским было насколько престижно, настолько и сложно,- продолжает Е.М.Котова. — Не помню, чтобы Александр Яковлевич праздно проводил время. Хватало забот и в школе, и в детдоме. Это был человек слова: назначит совещание на 9 часов — будьте добры без опозданий, даст кому поручение — проверит, сделал или нет. Зря никогда не говорил, не обещал. Вспоминаю его добром. Афонский для меня и коллег, для Шарович и всего Рогнединского района — это, безусловно, феномен, личность, гордость.
КАК УЧЕНИКИ ГЕОГРАФА ЭКЗАМЕНОВАЛИ
Накануне одного из уроков по географии в 9-м классе жена директора Елена Петровна предупредила Евгению Максимовну: «Мне стало известно, что сегодня ученики будут вас пытать, проверять ваши знания по географии. Все ребята приготовили вопросы. Наш Валик тоже что-то готовил, я поинтересовалась, и он мне все рассказал».
— Меня эта новость взволновала, конечно, — продолжила Евгения Максимовна.- Но делать нечего — иду на урок и одновременно определяю тактику поведения. Ставлю перед классом задачу: коротко и ясно отвечаем заданный материал, чтобы еще осталось время для вопросов. «Кто будет первым?» — спрашиваю. Лес рук. Указываю на кого-то из Спиридоновых (не помню имени). Тот встает и говорит: «А я не отвечать хочу, а задать вопрос». «О, милый мой, вопросы только в конце урока. Садись…» Все притихли, напряжение нарастало. У нас тогда учились ребята не только местные, но и из Калужской области. Например, из деревни Новики. Вот и подумала, мол, дай подниму одного из них, который учился почти на одни «пятерки». Кажется, звали его Вильямом. Он встал и с такой напускной гордостью и бравадой вдруг заявил: «А я знаю урок, но вам сегодня отвечать не хочу». И сел.
Обида меня захлестнула, но, тотчас овладев собой, сказала: «Ну что же, не хочешь, так не хочешь. Я даже рада, только учти, в 9-м классе география заканчивается. Двойку тебе поставлю итоговую и поедешь сдавать экзамен по географии в Гобики или Рогнедино». Идем дальше. Поднимаю второго — тоже знает, но отвечать не хочет. Сын директора признался, что «сегодня урока не выучил». Всем троим поставила «неуд». После этого перестала опрашивать учеников, а познакомила их с новой темой и дала задание на следующий урок.
— Позднее, анализируя свои действия на том памятном для меня уроке, я пришла к выводу, что нужно было мне вести более сдержаннее, — считает Евгения Максимовна. — Вильям впоследствии закончил институт, обрел любимую профессию. А тогда… До конца четверти он пытался реабилитироваться. Просил прощения, порывался ответить. Но я не спешила, спрашивала других. И только на одном из последних уроков в течение всех 45 минут гоняла его по всем вопросам, разделам, по карте. Он отвечал блестяще! Поставила ему сразу две пятерки — чтобы в четверть тоже была пятерка.
ЗАМУЖЕСТВО
До 1985 года жители села Снопот в весеннюю и осеннюю распутицу добирались до районного центра либо пешком, либо на тракторах-дизелях, либо на двухмостовом ГАЗ-66, который из Шарович возил через Снопот сливки на Дубровский молокозавод. За рулем высокопроходимой машины сидел Анатолий Никитович Котов. Его, общительного, доброго по натуре человека, снопотчане уважали. Он не только брал всех на борт, но и выполнял заказы местных жителей: купить сахарку, муки, хлеба…
Между тем, трудовая биография Анатолия Котова в молодости складывалась совсем в другом русле. После железнодорожного училища пошел в кондукторы пассажирских поездов. Жил в Фаянсовой. Время от времени приезжал в Малую Лутну — навещал сестру Шуру, которая воспитывала сироту Витю. Здесь Анатолий однажды и познакомился с Евгенией Сергеевой.
— Котов того времени, — вспоминает Евгения Максимовна, — это модный костюмчик с галстуком, наглаженные брюки, курил только «Беломор». Настоящий денди. В то время я с подругой Тоней, тоже учительницей, снимала комнату у нашего физрука Николая Матвеевича и его жены Анны Демьяновны. Бывало, уроки проведет и — на рыбалку. Мы ему бутылочку (любил это дело), а он нам рыбки. Почистим, посолим, помидоров добавим и в печку поставим. Так мы шиковали. А тут Котов повадился ходить к Николаю Матвеевичу. Ходил к Николаю Матвеевичу, а заглядывался на меня. Но я старалась не показывать виду, что он мне нравится. Хотя, конечно, жених был видный. Да и человек неплохой. Но моя гордость… Словом, по моей инициативе мы с Тоней сменили квартиру.
У Котова в Гобиках жила двоюродная сестра. Когда он как-то поехал к ней на свадьбу, то заехал ко мне, а меня не застал. И обратно ехал — завернул. Но снова я еще не пришла с работы. Честно признаться, специально не спешила. Из-за него. Понимая все это, хозяйка стала меня увещевать: «Что же ты делаешь? Он раз заехал, другой, а ты нос задираешь? Смотри, ребят у нас нету. А он парень-то хороший — аккуратный, грамотный, да и ты ему нравишься. Кого ты еще ждешь?»
После этого стали мы чаще встречаться. Анатолий мне велосипед дамский купил, на котором я в выходные ездила к матери в Рогнедино. И он за мной — сопровождал. Вместе было веселей. В Рогнедино вместе с братом и мной в клуб ходил. Ходили-ходили и доходились: я согласилась замуж. А когда нужно было пойти в сельсовет расписываться, я снова, как это выразиться проще, задурила: как уроки заканчивались, то с подругой куда-нибудь уходила, лишь бы не в сельсовет. Но Анатолий стойко все это перенес: однажды ждал меня с уроков в школе с самого утра.
Что делать, пошли мы вместе в сельсовет. Надо брать фамилию мужа, а я нет: «Останусь Сергеевой». Тогда Егор, который нас расписывал, говорит: «Евгения Максимовна, вы подумайте. Вместе с вами работает в школе Анна Николаевна Гусева, а ее муж Усов и детки Усовы, а не Гусевы. Степанида Кирилловна Холодцова, а дети пишутся Самошкины — по мужу. Представьте, у вас будут детки и станут они Котовыми, вам не обидно будет?» «Ладно, ответила я, пишите — Котова».
ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА
После скромной свадьбы Анатолий Котов привел молодую жену жить в доме сестры, оставил работу кондуктора-железнодорожника, выучился на водителя. Со временем заслужил первую водительскую категорию. За 60 лет работы, связанной с автотранспортом, не имел ни единого «прокола» от сотрудников госавтоинспекции. Работал, пока не заболел.
Евгения Максимовна преподавала географию до 1974 года, затем была назначена директором школы. А когда Лена родила сыночка, вышла на пенсию. «Мама, я отдам тебе всю зарплату, только будь с малышом»,- просила дочка.
— И я ушла на пенсию, хотя по работе сильно скучала. Жили мы возле школы, и когда раздавался звонок на урок или с урока, или когда детвора пробегала мимо нас на стадион, то на глаза накатывались слезы.
Однажды пришел к Котовым директор школы Степных и просит «всего один годик поработать географом». А Евгения Максимовна как раз поливала мужу на руки. «Надо подумать»,- неуверенно проговорила она. Муж, вытирая руки полотенцем: «Нечего думать, ты свое отработала, и не ходите, Александр Степанович, и не зовите. Она теперь сидит с внуком и пусть сидит».
— Отец и мать женились по любви, — рассказывает Елена Анатольевна, которая преподает литературу и русский язык в Шаровичах, а раньше, как и мама, работала здесь же директором.- Иначе как можно было прожить вместе шестьдесят лет? Отец любил нас, детей, заботился. Хотя по характеру родители в чем-то разнились, но в целом дополняли друг друга. К сожалению, папы уже нет с нами. У меня немало было сложных моментов в жизни и только благодаря родителям удавалось справиться с ними.
— В чем, на Ваш взгляд, секрет долголетия мамы?- спросил я Елену Анатольевну.
— Мама очень мудрый человек, внутренне сильный и ответственный. У нее богатая линия судьбы, многое пришлось перенести. После смерти папы как-то потухла, и мы сильно беспокоились за ее здоровье. Но постепенно мама пришла в себя, окунулась в повседневную работу по дому, радуется приезду внуков, а теперь еще и правнука. Мама много читает. Учит стихи, перечитала всю военную литературу, любит исторические произведения. Внук Паша сбрасывает ей на флешку то, чего нет в библиотеке.
А еще Евгении Максимовне повезло с детьми. Сын Владимир живет в Жуковском районе, один внук, Павел, в Москве, а другой, Владимир, в Брянске. Павел и невестка Оксана подарили бабушке правнучку, в которой Евгения Максимовна души не чает. Лена и зять Александр Малолетний живут с матерью, которая окружена заботой и вниманием. В день 90-летия ее тепло поздравили представители власти, бывшие ученики, учителя местной школы, работники культуры, все, кто уважал и уважает учителя Евгению Максимовну Котову. Это для нее самый лучший подарок.
* * *
Когда материал готовился к печати, в редакцию пришло письмо от Анны Федоровны Семенец — бывшей ученицы Е.М.Котовой:
«На всю жизнь запомнилось, как она, еще будучи молодой учительницей, прямо с порога заявила: «Я — Евгения Максимовна, ваш классный руководитель, буду вести географию». Нет, не вошла, а влетела, ошарашив нас, учеников, своей деловитостью. Мы думали, что после представления урок перейдет в обычное русло: тема урока, вопросы, домашнее задание… А она: «Давайте, ребята, распланируем, чем будем заниматься в новом учебном году, составим план».
Помимо уроков географии она много времени отдавала организации различных культурно-массовых мероприятий для учеников: «огоньки», концерты, походы. Помню, вместе с ней побывали на стоянке партизан в Бочарах, на обратном пути заночевали в Рогнедино у ее брата Алексея Максимовича. А утром пошли пешком на Шаровичи.
Учитель, директор Котова обладала твердым характером, всегда добивалась поставленной цели. Была также хорошим психологом. Она не делила учеников на хороших и плохих, но вступалась за тех, кто нуждался в помощи. Учился в нашем классе Миша Иванов (фамилию и имя по определенным причинам не называю), который своим поведением доводил учителей до слез, или до психа. Его выгоняли с уроков. Евгения Максимовна терпела Мишу и даже защищала всячески, стараясь объединить всех. И он постепенно стал меняться в лучшую сторону, потому что почувствовал, что его уважают и Евгения Максимовна, и одноклассники.
Не было у нас ни Ольги Ильюхиной, ни Люды Усовой — все были равны, со всех одинаковый спрос. Мне она как вторая мама, всегда интересовалась, как дела, какая помощь нужна. Желаю Вам, Евгения Максимовна, здоровья, любви ближних, живите долго».
Виктор Игнатов
Еще по теме:
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Июн | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||